
Предисловие автора: Владислав Кручинский – молодой, но уже заслуживший весьма солидный авторитет исследователь-африканист, сотрудик Центра исследований Юга Африки Института Африки Российской Академии наук. Влад занимается изучением истории и политических процессов в Южноафриканской Республике – в частности, такого достатчно нестандартного для африканистов аспекта, как культурные трансформации внутри белого сообщества ЮАР. Вернувшись из очередного этапа полевого исследования в Южной Африке, где он провел почти все весну, Влад выступил с докладами на ученом совете Института, снискав множество лестных отзывов своих более опытных коллег – а также на Европейской конференции африканистов в Лиссабоне. Этот безусловный успех натолкнул меня на идею встретиться и побеседовать с ним о таком феномене как «белая бедность» в современной Южной Африке. В связи с тем особым контекстом, который она приобретатет в рамках дискуссий об апартеиде и пост-апартеидной эпохе, данная тема пока что получает гораздо больший интерес в кругах правых и ультраправых комментаторов. Левые же, несмотря на то, что речь идет о явлении безусловно социальном, избегают разговоров о белой бедности – видимо, опасаясь «играть на поле противника». Я предложил Владиславу вместе разобраться, что в этой истории – миф, а что – сложная и далеко не всегда однозначная реальность. Результатом этого стал подробный разговор о «белости», бедности, «колониальной панике» и тоталитарных кибуцах в Южной Африке.

– Влад, недавно ты вернулся из ЮАР, где проводил полевое исследование. Расскажи о теме этого исследования. Что тебя к нему подтолкнуло?
– Темой полевого исследования была, условно говоря, политэкономия белой бедности в современной Южной Африке. Что меня к ней привело – вопрос сложный, тут какая-то полифоническая игра разного рода факторов. Вообще, я занимаюсь изучением африканерского сообщества в ЮАР, трансформаций, которым оно подвергается с 1994 года – то есть, с конца эпохи апартеида. Я искал какой-то новый фокус, который позволил бы лучше увидеть, что происходит с африканерами сегодня. Неожиданно наткнулся в прессе на упоминания о бедных африканерских поселениях и подумал, что это очень интересно и надо съездить посмотреть, как там на самом деле все обстоит на месте. К тому же, об этом феномене пока еще достаточно мало написано, мало кто этим интересуется. Ну и, конечно, тут еще добавился полевой азарт.
– То есть ты вообще исследуешь белую общину как таковую, а уже в процессе ее изучение привело тебя конкретно к теме бедности в этой общине?
– Да. При этом, я бы не сказал, что этот феномен очень уж распространен, он просто очень сильно виден. То есть, этот образ оказывается очень визуально заряженным, бросающимся в глаза. И вот за счет этой своей экзотичности белые бедняки притягивают к себе внимание разного рода СМИ. Возможно, даже чересчур много внимания к ним приковывается, диспропорционально истиным масштабам этого феномена. Статистически, людей, которых по-настоящему можно назвать бедными среди белого населения Южной Африки не так много. Но проблема в том, что не существует сколько-нибудь надежных оценок их численности.
– Но вообще, бедность «белая» и бедность «черная», они чем-то отличаются?
– Я не занимаюсь специально сравнением бедной и черной бедности, но так или иначе такие сравнения, конечно, делать приходится. На уровне институцональном, на уровне каких-то стратегий выживания они отличаются очень сильно. Но политэкономия бедности также отличается и в зависимости от региона. На севере, в провинции Гаутенг (часть бывшей провинции Трансвааль – прим. ред.), в Претории, а Претория – это своего рода африканерский форпост, вообще центр всего африканерского, там это различие очень сильно бросается в глаза.
В Западном Кейпе все по-другому, и говорить о том, что белая бедность и черная на каком-то структурном уровне отличаются друг от друга, не приходится: белые и черные живут вместе в одних неформальных поселениях, и стратегии выживания у них одни и те же. В Претории же белая и черная бедность разделены как пространственно – бедняки-африканеры все же концентрируются с сугубо белых поселениях, так и политэкономически – источники дохода, и, главное перераспределение там совершенно другие.
Я фокусируюсь преимущественно на Претории, потому что она дает достаточно интересные заходы, чтоб об этом говорить. Тут тоже есть несколько подходов. Скажем, подход к изучению бедности с точки зрения городской неформальности или с точки зрения стратегий выживания и так далее. И вот, даже говоря о ситуации в Претории, очень сложно оценить общий удельный вес тамошнего бедного белого населения – потому что в Южной Африке отсутствует какая-то официально принятая граница доходов, позволяющая говорить о том, что вот этого человека или домохозяйство можно относить к категории бедного населения.
– То есть, отсутствует черта бедности? Почему?
– Да, черта бедности отсутствует. Ее просто невозможно провести – в южноафриканском контексте то, что значило бы «бедность» для одного, для другого – вполне сносное существование. Даже в своих анкетах я постоянно сталкивался с этим – люди, живущие на, условно, десять тысяч рублей, пишут, что вполне довольны своим положением. В академических кругах принят такой условный подход, что доход менее 5 тысяч рандов (то есть порядка 20 тысяч рублей) на домохозяйство означает, что это домохозяйство или индивидуальный персонаж находится за чертой бедности.
– Ну, и сколько, в соответствии с таким подходом, в процентном отношении бедных среди белых в настоящее время?
– Это один из моих любимых вопросов. Потому что традиционно это поле каких-то чудовищных махинаций и фантасмагорий. Общее население ЮАР – более 50 миллионов человек. Из них где-то 3,6 миллиона – это белые. При этом присутствует еще разделение белого населения на африканерское и английское сообщества, среди которого первых – 2,5 миллиона. Существует широко разошедшаяся по СМИ цифра в 600 тысяч бедных белых.
– Это вместе – и африканеров и «англичан»?
– Ну, в первую очередь, африканеров, конечно. Мы, конечно, условно включаем в наш разговор и англоязычное сообщество, но при этом будем отдавать себе отчет в том, что на фоне общей белой бедности это будет несколько процентов – вряд ли больше.
– Вернемся к озвученной тобой цифре. 600 тысяч из 3,6 миллионов – это весьма внушительная цифра...
– Да, это много. И это очевидным образом просто политическая манипулляция, потому что если бы это было так – то в действительности за день мы бы видели, скажем, не двух белых людей, попрошайничающих у светофора, что является нормой в Гаутенге, а две тысячи. В реальности в этом вопросе нет какой-то статистики, какой-то строгой цифры. Смешно, но когда я брал интервью у людей из исследовательского института при африканерском профсоюзе «Солидарность», и обратился к ним с этим вопросом о количестве бедняков, они сказали: «знаешь, ты волен гадать, мы сами этого не знаем».
При этом смешно то, что в то же самое время это движение или различные афиллированные с профсоюзом «Солидарность» организации сами участвуют в производстве этого мифа о шестистах тысячах бедняков. В принципе, можно отследить куда он уходит корнями: к каким-то полу-маргинальным условно говоря «профессорам» крайне правого толка. На правом фланге существует такая маргинальная как бы интеллектуальная жизнь – и вот там и рождаются эти безумные мифы. И это выводит на более серьезный и очень интересный разговор о том, как феномен белой бедности становится полем для политических и идеологических манипуляций. Сам факт существования этого сообщества, которое никогда не имело своего голоса, несмотря на то, что оно существовало на протяжении всей южноафриканской истории...
– «Белая бедность» существовала и во времена апартеида?
– Разумеется. Все вовсе не так, что вот пришло черное правительство и вдруг сразу же появились бедные белые. Они существовали всегда, но при этом их всякий раз кто-то заново их открывает. Собственно, режим апартеида блестяще справлялся с задачей маскировки подобных явлений. Вообще, апартеид и даже шире – все эти процессы, которые здесь происходили с 80-х годов XIX века, во многом коренится в таком феномене как «колониальная паника». Причем, я говорю даже не об африканерском колониализме, а об английском в первую очередь.
«Колониальная паника» – это и не научный термин, но по большому счету это можно описывать, с моей точки зрения, так – это когда колониальное правительство, видя то, что часть белых поселенцев-колонизаторов находится в непосредственном контакте с туземным населением, и за счет того, что она бедна, живет в трущобах, вступает с черными и прочими не-белыми в различные отношения – от экономических до сексуальных, и колониальное правительство не может это контролировать – оно начинает жутко паниковать. Потому что размытие вот этих расовых границ сообщества опасно тем, что привилегированный статус белого человека может быть подвергнут сомнению.
И вот принимаются специальные меры, закрепление за белыми бедняками каких-то профессий, районов. Белая бедность существует всегда, но колониальное правительство пытается с ней как-то бороться – ну и, помимо этого, маскирует ее и прячет. То есть, каким бы ты ни был маргиналом, хулиганом, бедняком, за тобой всегда была закреплена позиция – на почте, на трамвайной линии и так далее. Есть такое слово – «armlastigheid», что означает состояние, когда белый человек находится на пособии, не хочет работать и все в этом духе. Так вот, каким бы «армластих» ты ни был, за тобой, как за белым всегда был какой-то присмотр.
После 1994 года этот присмотр закрылся, и эта, всегда существовавшая, в сущности –субкультурная категория вышла так сказать на открытую арену. Ее больше никто не прятал, исправительные и трудовые лагеря, которые существовали во времена апартеида были ликвидированы, эти люди оказались на улице и стали видны. И после этого все стали об этом говорить.
– Режим апартеида был по отношению к ним патерналистским?
– Конечно. Национальная партия претендовала на то, чтобы производить идею протестантского народа-семьи, с гипертрофированной фигурой отца, строгой и жесткой системой подчинения, с выпячиванием гражданской религии и так далее. Национальная партия в очень большой степени и произвела африканерский народ. Мы конечно не будем приписывать эту заслугу исключительно ей – но все же надо признать, что еще лет сто назад, в 1913 году, африканеры не имели даже какой-то своей национальной мифологии. Даже несмотря на англо-бурскую войну, через которую они прошли. Это уже затем, в 20-е – 30-е годы ХХ века, история англо-бурской войны была переосмыслена – и появился «фолк», и все остальное.
– Ну, а что же происходит с ними теперь? В последние годы общим местом стали замечания об увеличивающемся разрыве между богатыми и бедными в ЮАР. Какое место в этом процессе занимают африканеры? Они все же больше выиграли или проиграли – как сообщество – от этих реформ? Происходит ли в их среде какие-то процессы дальнейшей социальной поляризации? Возможно, они по-новому смотрят на свое положение, как-то по-новому себя осознают? Складывается ли какое-то общеклассовое сознание?
– Во-первых, в абсолютных величинах как раз происходит сокращение разрыва в доходах между различными расовыми группами. То есть, условно говоря, белые теперь не в сто раз богаче черных, а в пятьдесят – и эта разница продолжает быстро сокращаться. Но это какая-то глобальная фиктивная статистика, потому что внутри каждой из этих групп разрыв в доходах увеличивается. Это видно по динамике коэффицента Джинни. Разница в доходах между десятью процентами самых богатых и десятью процентами самых бедных увеличивается и среди белых, и среди черных. Это неизбежный процесс при переходе к неолиберальной стратегии.
Существует точка зрения, согласно которой белое сообщество только выиграло от перехода от апартеида на неолиберальные рельсы. Многие белые предприниматели замечательным образом поднялись, теперь они пользуются такими благами и имеют такие доходы, которых не могли иметь в эпоху апартеида – в частности, потому, что во время апартеида основным нанимателем среди африканеров было государство, а сегодня они почти все заняты в частном секторе.
Но одновременно с этим появляется – или, скорее, опять же не появляется, а проявляется класс каких-то белых заводских рабочих, слесарей, механиков, электриков, которые не могут конкурировать за рабочие места в новой ситуации. Это происходят по ряду причин – и вследствие отсутствия уже упоминавшейся государственной поддержки, а также вследствие политики «Affirmative Action» (политика «позитивной дискриминации» при приеме на работу, которую проводит правительство Африканского национального конгресса, предписывающая приоритет чернокожим соискателям рабочих мест – прим. автора), к которым, наверное, стоит потом еще специально вернуться. Так вот, некоторая часть этой группы оказывается неконкурентной на рынке труда. Люди лишаются работы, маргинализируются. То есть кто-то, безусловно, выигрывает, кто-то – проигрывает.
– Но все же, что происходит с бедностью в статистическом смысле? Бедных становится больше или меньше?
– Мы не закончили с цифрами. Цифра 600 тысяч продолжает воспроизводиться – хотя вот недавно я столкнулся на ВВС со скандальной статьей, которая приводит цифру в 400 тысяч. Это некий апдейт старого мифа, но даже эта цифра не имеет ничего общего с реальным положением дел. По моему мнению эта цифра составляет максимум 100 тысяч человек. Да и то – с сильным запасом. Белых людей, которых можно отнести именно к категории «desperate», около восьмидесяти тысяч. Это бездомные, которые вынуждены где-то скитаться. Например, в Гаутенге существует около 80 приютов-поселений, в которых я работал и при этом в них живет, как правило, человек по 50 или 100. Ну и плюс это могут быть люди, которые не являются бездомными, живут в своих домах, но которые обеднели, потому что у них нет работы. По всей стране, включая Западный Кейп, таких людей около ста тысяч.
Но это все равно достаточно небольшая цифра – особенно на фоне общих цифр, количества белых семей, в которых дети ходят в школу, потом идут в университет и так далее – учитывая их соотношение, мы все равно увидим, что белое сообщество чувствует себя неплохо. Хотя, опять же, говоря о том, что по статистике белые чувствуют себя много лучше черных, надо отдавать себе отчет, что это далеко не все белые.
А что касается динамики – все же бедняков становится больше. Потому что вот этот момент, когда ты вынужден с кем-то конкурировать, – хотя до этого тебе не нужно было ни с кем конкурировать, потому что ты имел какие-то гарантии, – он способствует тому, что бедных белых становится все-таки больше. Плюс появляются молодые люди, у которых еще никогда не было работы, и которые не могут пристроиться – как по общепонятным причинам, так и из-за «Affirmative Action». Подавляющее большинство людей, живущих в Претории в убежищах для бедных, или в Западном Кейпе, где мне удавалось их найти – это люди в лучшем случае закончившие школу, и имеющие что-то сродни нашему профессиональному образованию в училищах – механики, электрики и так далее.
– Главная причина их бедности – это отсутствие работы?
– Причина их бедности состоит в том, что в Южной Африке вообще глобальная проблема бедности и, в первую очередь, она связана с дефицитом свободных рабочих мест.
– Хорошо, давай вернемся к политике «Affirmative Action». В действительности ли она сильно подрывает возможность получения работы для этих людей?
– Я проводил анкетирование в ходе своего исследования – и, если говорить о количественных показателях, то на вопрос, повлияла ли на вас прямо политика «Affirmative Action», большинство, больше 60 процентов, ответили «да». Но при этом я просматриваю эти анкеты дальше и вижу, что человек, который ответил «да», еще в начале 90-х или в конце 80-х годов он вышел на пенсию. Ему уже за шестьдесят и просто технически эта политика на него никак повлиять не могла.
Я склоняюсь к тому, что эта тема просто постоянно обсуждается, отношение к данной политике очень плохое, и я в принципе согласен, что какие-то перегибы там, безусловно, имеются. Хотя это считается неполиткорректным – говорить, что политика «Affirmative Action» была по сути ошибочной. Очевидно, что в ней заложена, конечно, какая-то несправедливость. Но при этом случаи, когда тебе не надо никаких дополнительных аргументов, чтобы сказать: да, вот этот человек – жертва «Affirmative Action» – эти случаи можно пересчитать по пальцам. Это, к примеру, парень, который еще лет пять назад занимался прокладкой каких-то кабелей и работал в IT где-то во Владивостоке. То есть, очевидно, что это квалифицированный и высокооплачиваемый в прошлом работник, который сегодня живет в одном из маргинальных убежищ бедных африканеров. Потом, был еще ресторанный шеф-повар, который также лишился работы в связи с «Affirmative Action».
То есть эта политика на них, конечно, влияет – но пока нельзя говорить, что на статистически значимом уровне она как-то существенно увеличивает количество этих самых белых бедняков. Например, в этих приютах, когда начинаешь общаться с их владельцами на тему «Affirmative Action», они тут же воспроизводят тебе эту историю – что это так плохо, что белые люди не могут найти себе работу... Но когда просишь назвать реальных людей, которые таким образом пострадали – сразу выясняется, что их один-два-три-пять...
– Расскажи об этих приютах. Что это за учреждения? Они содержатся государством?
– Ну, нет, конечно. Как ты представляешь себе государственные приюты именно для белых бедняков?
– Ну, почему нет? Есть же какая-то социальная политика в отношении социальсно исключенных категорий населения.
– Государство проводит такую политику посредством раздач грантов по безработице или на воспитание ребенка, и т.п. Это большая программа, которая реально работает и за счет которой выживает значительный процент населения страны.
А что касается этих приютов – это вообще уникальное и очень интересное явление. Они стали появляться после 1994-го года, хотя некоторые существовали и до этого, во время апартеида. При этом они продолжают возникать вплоть до сегодняшнего дня. Как правило, история таких приютов начинаются с того, что какой-то человек, у которого есть кусок земли пускает к себе бедных людей, которым больше некуда идти – якобы по доброте душевной. Они начинают жить в трейлерах, воссоздавая всю эту американскую эстетику, либо в каких-то домиках. Потом об этом месте становится известно, туда заселяются все новые и новые люди.
Изначально это некоммерческие предприятия, но они быстро коммерциализируются. Экономически это выглядит так: существует лендлорд – он же, как правило, лидер этого сообщества, который собирает с людей ренту: в среднем 600 – 700 рандов в месяц (2000 – 2300 рублей – прим. автора). За это предоставляется кров, плюс какая-то пища на коммунальной кухне.
Существует несколько типов этих поселений – приюты для бездомных, рабочие коммуны, смесь того и другого. И есть одна мрачноватая полностью автономная зона вроде кибуца. Я рискну предположить, что какие-то из этих колоний самом деле являются некоммерческими, хозяин земли, который тут же живет, за время, за которое существует этот проект, сам обеднел и теперь мало чем отличается от прочих жителей. Но это редкость. В большинстве из них существуют еще какие-то дополнительные формы заработка на месте, начиная от автомастерских до мебельных цехов или пунктов ремонта бытовой техники.
– То есть, это такой кооператив?
– Нет, я бы не сказал, что это кооператив. Потому что собственность там принадлежит одному человеку, который использует рабочую силу тех, кому некуда больше податься и у кого есть какие-то навыки работы руками. Сообщество генерирует прибыль – но она присваивается хозяином, и на самом деле происходит воспроизводство бедности.
– Но у этих людей есть в итоге шанс как-то повысить свой социальный статус и покинуть приют, вернувшись в нормальную жизнь? Или они туда попадают чтоб остаться навсегда?
– На самом деле, я, видимо, слишком оптимистично рассказываю об этих приютах. Вообще, эти сообщества очень закрытые и попасть туда, как попал я, без помощи каких-либо гуманитарных инициатив, практически невозможно. То есть в какой-то момент я понял, что все приюты в которых мне удалось побывать – это приюты из списка, который я получил в одной из гуманитарных организаций, связанных с профсоюзом «Солидарность». После того как я немного освоился, и приезжал в те приюты, которых не было в этом списке, объяснял цели своего визита, меня слушали и потом отвечали: нет, извини, мы не знаем кто ты, откуда, какая у тебя повестка и так далее. То есть там очень настороженно относятся к людям извне. И это объясняется тем, что во многих этих поселениях на самом деле происходит какая-то тайная полукриминальная жизнь.
Например, в некоторых из них, чтобы там жить, ты должен идти собирать милостыню на светофоре. Если отказываешься – то ты там жить не можешь. Есть поселения, которые вообще являются просто прикрытиями для каких-то совершенно безумных активностей, в которые я даже не хочу сейчас углубляться. Но, так или иначе, часть этих поселений существует в режиме какого-то криминального тренда. Многие из них входят в какие-то христианские сообщества. И выглядит это все чистенько – сидят какие-то старики, курят трубки... Владелец этого всего заведения водит тебя, показывает, мол, вот здесь у меня автомастерская, вот коммунальная кухня. Все бедно, конечно, но довольно чистенько, опрятно – прямо протестантским духом каким-то проникаешься. А на следующий день ты приезжаешь в другую коммуну, находящуюся по соседству с этим идиллическим местом, и встречаешься там с людьми, которых из него выгнали – потому что они отказывались просить милостыню для хозяина.
На самом деле эти сложности возникают вследствие того, что они зафиксированы как некоммерческие организации, что делает их невидимыми для правительства. Хотя некоторые вещи, которые там происходят, на самом деле противоречат конституции, например, в целом ряде таких приютов действует запрет на проживание черных – но из-за статуса некоммерческой организации правительство не может в это вмешиваться.
Я могу еще долго рассказывать про эти общины. Но главное, пожалуй, состоит в том, что задача государства по возвращению белых бедняков к жизни в «нормальном обществе» – то есть, учитывая контекст истории ЮАР, – возвращение их в режим сравнительно привелигированной жизни, переходит к частным лицам. А они, якобы выполняя эту задачу, на самом деле, за счет коммерческой деятельности воспроизводят бедность в этих «черных дырах» для белых.
Что касается возможностей реинтеграции в общество – в отдельных случаях это, действительно, происходит. Бывает так, что если у человека в жизни случилось нечто неприятное, он попадает – удачно! – в это коммуну-приют, после чего находит работу где-то за ее пределами и действительно возвращается в общество. Но это единичные случаи. Как правило, попадая раз в такое сообщество, ты погружаешься в этот «underworld» сумеречной жизни на долгие годы. Тебя могут выгнать из одной такой комунны, но к этому времени у тебя будет уже сеть неформальных контактов в этой субкультуре, ты будешь знать, куда тебе податься. То есть, продолжается вот эта маргинальная жизнь – вот эта «armlastigheid».
Другой вариант, на мой взгляд, куда более настораживающий, демонстрирует сообщество под названием «Philadelphia Ark». Это коммерчески успешное предприятие, которым руководит человек, специализирующийся на производстве и укладке асфальта. В 1998 году у него даже наклевывался какой-то громадный контракт в России – и, как он говорит, если бы не кризис, он бы сейчас был бы уже за счет этого контракта миллиардером.
Так вот, это сообщество – такой квази-кибуц. То есть, все принадлежит одному человеку, но во всем остальном это кибуц. Они живут на огороженной территории, все очень струкутрировано, мужчины могут жить только в одном квадрате, женщины – в другом, семейные пары – в третьем, мужчины с проблемами со спиртным – в четвертом, женщины с детьми – в отдельном огороженном секторе.
– И чем там в основном занимаются люди?
– У них там есть целый ряд предприятий. Основное – это асфальт. У них много заказчиков, включая даже администрацию города, и они постоянно ездят и укладывают где-то асфальт. За счет этого они получают основную прибыль. Помимо этого, у них есть автомастерская, ангар, где производятся облицованные фанерой зимние домики-венди, типография. Плюс там существуют коммунальная кухня, молельный зал, место раздачи бесплатной одежды, которую жертвуют им какие-то гуманитарные организации, склад с едой. И, при этом, внутри этого сообщества запрещен денежный оборот. То есть, если тебе нужен какой-то свитер, ты приходишь, и говоришь: «мне нужен свитер». И тебе его дают. Хочешь перекусить – приходишь на склад с едой, тебе дают каких-то бобов. Но за это ты должен работать.
– Зарплату они вообще не получают?
– Люди, с которыми я там говорил, сообщали, что какую-то минимальную зарплату там им все-таки платят. И ты живешь там бесплатно. Но только для того, чтоб туда попасть, надо пройти еще определенный социальный отбор. То есть, у них там есть такой офис, что-то вроде отдела кадров, куда приходят вновь прибывшие. Им дают некий испытательный срок, после чего их куда-то поселяют там и они сразу же начинают работать. Ты не можешь находиться там, не работа – если ты не пенсионер, конечно. Для пенсионеров там есть специальный квадрат, за проживание в котором ты платишь какую-то ренту из своей пенсии – где-то две трети от нее. Но если ты не пенсионер, то должен работать либо внутри сообщества, либо в поле. У них есть еще свое поле.
– По описаниям это напоминает тоталитарную общину.
– Да, это и есть тоталитарная община, где разработана очень четкая система контроля. Каждый тип активности курирует специальный человек, который ходит с рацией и переговаривается с другими такими же кураторами. И слово «кяфир» там я слышал, наверное, больше, чем я его слышал за всю свою остальную жизнь. Слово «кяфир» – это запретное в Южной Африке слово, максимально заряженное расизмом еще с эпохи апартеида. Употреблять его не то что нельзя – употребление его вообще считается немыслимым.
– То есть, это не «негр» даже, а скорее как «ниггер»?
– Это намного хуже, чем «ниггер». При этом сам бизнесмен, владелец вот это всего асфальтового дела, говорит мне: «О, вы из России! Как хорошо вам, у вас нет кяфиров». То есть, интересно, что люди, чувствуя вот эту уверенность в завтрашнем дне, не настроен «возвращаться» в Южную Африку. Это даже не Орания (посетив Оранию, мы могли видеть, что она также представляет из себя разновидность тоталитарного «кибуца», с раздельным проживанием нескольких групп людей и выраженным имущественным расслоением в общине. Однако первоначальные попытки обеспечивать жизнь поселения за счет культивирования земляных орехов провалились, и оно выживает за счет финансовой помощи состоятельных африканеров и иностранных спонсоров с правыми взглядами – прим. ред.). Орания и Клейнфонтейн – это тоже известные автономные поселения – но такие проекты как «Филадельфия» намного более опасны, за счет своей самодостаточности. Хотя это интересно, конечно, но в то же время это не может не настораживать.
– Скажи, а как государство смотрит на весь этот проект? Наверняка до каких-то чиновников тоже доходит информация о том, что там происходит?
– Я думаю, что если кто-то из государственных чиновников и знает что-то об этом, то предпочитают не замечать и не вмешиваться. На самом деле, в «Филадельфии» сейчас около 360 человек – это пока не так много. Но вот когда там будет 3600 человек – думаю, кого-то это может и заинтересовать. Они, кстати, тоже зарегистрированы под видом НКО.
– А как относятся в этих «кибуцах» к правительству, к Африканскому национальному конгрессу?
– Хороший вопрос... Да, никак – ругают, и получают от правительства какие-то пособия по безработице, пенсии. Вот, собственно, и все.
– А какова идеология их обитателей?
– Люди из «Филадельфии», как правило, открыто придерживаются ультраправых взглядов, и очень этим гордятся. Что касается большинства жителей приютов, то многие поддерживают Демократический Альянс (либеральная партия, оппозиционная правительству ЮАР – прим. ред.) – следуя мифу о том, что ДА – это такая «партия белых». То есть это уже давно не так, но имидж такой остался еще. Но большинство после краха апартеида даже не голосует. То есть, последний раз они голосовали за Национальную Партию еще при старом режиме.
– В начале беседы ты упоминал о «профсоюзе для белых». Расскажи о нем подробнее.
– Профсоюз «Солидарность» – это достаточно старый промышленный «белый» профсоюз. То, что происходит с ним последние пять лет – очень интересно и показательно. По сути, сейчас это уже не профсоюз, а некое общественное движение. В неформальных кругах о нем уже говорят как об «империи» или «государстве в государстве». У них есть целый ряд своих СМИ, свой исследовательский инситут, свое ПТУ, свой институт, который сейчас должен получить лицензию на присуждению степени PhD, и еще ряд организаций как-то с с ними аффилированных.
В чем политический смысл этих процессов? У африканеров, в силу объективных демографических факторов, нет возможности иметь свое представительство в парламенте – несмотря на наличие правой партии «Freedom Front Plus», которая получает на всех выборах около 160 тысяч голосов и у которой сейчас 4 места в парламенте. Несмотря на это, никакого существенного влияния на южноафриканскую политику африканеры – как сообщество – оказывать не могут. Другое дело, нужно им это или нет – но это мы пока не обсуждаем.
Так вот, осознав это, лидеры африканеров решили, что мобилизация на этнической основе должна проходить в каких-то других организационных рамках – и развернули движение «Солидарность». Сведущие люди говорят, что в членах этого профсоюза и связанных с ним организаций состоят практически все работоспособные африканеры. Речь идет не только о рабочих, поскольку в данный момент «Солидарность» включает в себя людей совершенно разных профессий, без какой-либо привязки к сфере деятельности. Это такой профсоюз для всех африканеров.
– То есть, любой африканер может стать членом профсоюза в силу своей этнической принадлежности? Но это ведь не профсоюз уже – это нечто совершенно другое?
– Да, ты можешь быть программистом, юристом, или металлургом и входить в этот профсоюз. Основной массив его работы связан с оспариванием незаконных с их точки зрения увольнений. В практическом смысле этот профсоюз представляет из себя мощную юридическую команду, которая судится с нанимателями. Ну, и понятно, что этот профсоюз далеко не левый – они не заняты ни организацией забастовок, ни повышением сознательности трудящихся. Разве что только повышением сознания трудящихся африканеров – именно как африканеров. За счет таких организаций как «F.A.K» (Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, Федерация африканерских культурных объединений, старейшая культурная лига, которая недавно вошла в «семью Солидарности» – прим.автора), профсоюз «Солидарность» подмял под себя практически все организации, так или иначе связанные с африканерским сообществом.
Что это такое – пока сложно сказать, поскольку все это происходит вот буквально сейчас, что называется, у тебя под носом. Возможно, это некое стремление переосмыслить себя как африканерское сообщество в новых условиях.
– А со стороны собственно африканерских рабочих нет каких-то попыток влиться в общее профсоюзное движение Южной Африки? Либо они совершенно осознанно и четко стремятся от него дистанцироваться?
– Да, верхушка этого движения, безусловно, осознанно пытается дистанцироваться от КОСАТУ (Congress of South African Trade Unions, крупнейшее профсоюзное объединение ЮАР, входящее в правящий альянс Южноафриканской компартии и Африканского национального конгресса – прим.автора). Поскольку у них в голове живет идея, что нужно заботиться «о своих».
– И у них нет никакого осознания общеклассовых интересов? Какой, например, была реакция на события произошедшие в прошлом году на Марикане? «Солидарность» заявляла какую-то свою позицию по этому поводу?
– Я не смотрел специально, как они отреагировали. Но рискну предположить, что им либо было все равно, либо они могли использовать это событие как повод в очередной раз покритиковать правительство. Что касается солидарности – теперь уже в прямом смысле слова, – белых рабочих с черными – мне очень хочется думать, что такие рабочие есть, но лично я их не встречал.
–Ты не пытался спросить, на чем основано их нежелание вливаться в уже существующие профсоюзные структуры – чтобы вместе, единым фронтом отстаивать свои социальные интересы? И что, напротив, заставляет их создавать какие-то свои собственные этноцентричные структуры?
– Я не задавал им такой вопрос, потому что боялся повергнуть их в шок – подобно тому, как ты сейчас своим вопросом поверг в шок меня. Видишь ли, «Солидарность» и прочие аффилированные с нею институты вообще не видят себя частью какого-то широкого рабочего фронта или социального движения. Они видят себя такой сущностью, вокруг которой должны собираться белые африканеры.
– И это по-прежнему влияние наследия политики апартеида? Или же это какая-то более недавняя тенденция, связанная с неолиберальным креном в политке АНК?
– Если говорить о «Солидарности», процесс резкого усиления этой структуры произошел буквально за несколько последних лет. Что послужило к этому толчком? Сложно сказать однозначно. Существует такое мнение, что после 1994 года африканерское сообщество впало в состояние социальной апатии – примерно, как у нас, в России. То есть, в обмен на гарантию какого-то более-менее комфортного существования они отказались от политического участия в жизни страны.
В какой-то момент это состояние было преодолено – в том числе и потому, что это существование, как выяснилось, оказалось не таким уж и комфортным для многих из них. Взять хотя бы ту же политику «Affirmative Action». Люди стали организовываться вокруг того, что было для них доступно. Хорошо, что эта организация не произошла вокруг каких-то уж совсем одиозных ультраправых формирований. А их довольно много и они до сих пор существуют – пребывая в убежденности, что завтра к ним вскинув свои руки, придут миллионы буров-африканеров.
– Но их же всего два с половиной миллиона?
– Да. Но я сам лично встречался с такими людьми, которые живут в ожидании реванша. Причем, в какой-то момент мне это напомнило наши выборы в Координационный совет оппозиции. Я, конечно, понимаю натянутость данного сравнения. Но вот я встречался с таким человеком как Андриес Безюйденхойт, председатель Подлиной Национальной Партии, которая еще в 70-х годах была в оппозиции Национальной Партии – за то, что. По их мнению, она была недостаточно правая. Так вот, этот голубоглазый и светловолосый, правда, уже седой человек в прошлом году принял участие в выборах в так называемый африканерский «Народный совет» – Фолксраад. Помимо него и его партии там было еще какое-то количество одиозных людей – хотя, между прочим, там светились и некоторые люди из «Солидарности», что тоже открывает нам глаза на некоторые вещи. В результате в этой выборной кампании приняло участие около 40 тысяч человек – и, по сути, они выбирали координационный орган некой новой политической единицы, которая не ждет ничего хорошего от правительства, и хочет как-то самоуправляться. В России в выборах в Координационный совет приняло участие свыше 80 тысяч человек – если я не ошибаюсь?
– Почти сто.
– С учетом соотношения количества населения это примерно сопоставимые цифры. И вот, я спросил Безюйденхойта: «вы отдаете себе отчет в том, что вы занимаетесь чем-то совершенно бесполезным?». На что он мне ответил: «Нет, мы ждем, что в какой-то момент люди все поймут, придут к нам, и мы снова будем на коне».
И таких примеров много. Причем Подлинная Национальная Партия – это лишь один из кейсов, причем даже не самый засвеченный в информационном плане. Премию World Press Photo 2012 выиграл репортаж о Kommandoskorps – это детские ультраправые лагеря африканеров, а National Geographic пишет сейчас об ультраправой организации Zuidlanders. Существует какое-то количество таких максимально одиозных структур – причем, в этой среде тоже есть разные тенденции. Как мне кажется, некоторые из них все-таки сообразили, что не будет ни вооруженного восстания африканеров, ни этнической автономии, и переориентировались на информационную войну. Ведь это такая сочная экзотика – расисты в постапартеидной ЮАР. Это заведомо беспроигрышная картинка для СМИ, все готовы туда ехать, я не знаю, почему у «Вайса» еще нет об этом репортажа.
И хмурые дядьки, которые мнят себя правопреемниками легендарных бурских генералов, неосознанно используют концепцию вьетнамского генерала-коммуниста Во Нгуэн Зиапа – о пропаганде в тылу врага. Это смешно, но, надо сказать, что это все же срабатывает. Эти сообщения о том, что в Южной Африке теснят белых, в качестве какой-то контрабанды все же проникает в информационное поле – и кое-кто на это клюет. Вот журналисты BBC даже клюют.
Но люди не группируются массово вокруг этих персонажей. Даже правые африканеры, которые не боятся признаваться в том, что они правые африканеры, с иронией смотрят на все эти фашиствующие клики и группируются вокруг «Солидарности». Конечно, это тоже правая структура, но там скорее либеральная среда, Наверное, это самая либеральная структура из подобных имеющихся в наличии в ЮАР.
– Левые идеи, насколько я понимаю, вообще не находят в этой среде никакого отклика – в том числе и у рабочих и бедняков. В чем причина этого, по твоему мнению?
– Мне сложно будет ответить на этот вопрос. К сожалению, находясь на севере страны, ты, действительно, не встретишь среди африканеров людей с левыми взглядами. Африканеров с левыми взглядами можно встретить в Западном Кейпе – но это будут скорее люди из университетской среды. Среди африканерских рабочих я вообще не встречал людей с отрефлексированными левыми взглядами – разве что с какими-то стихийно-анархическими идеями.
– Мы живем сейчас в эпоху, когда по всему миру набирают силу самые различные социальные движения, четко вписывающие себя в контекст левой традиции – в том или ином варианте, начиная от движения «Оккупай Уолл-стрит» до тех же колумбийских партизан, которые по поступившей сегодня информации собираются войти в правительство и как-то влиять на политический процесс. Интерес к левым идеям, так или иначе, растет. И тут мы видим на этом фоне такой ультраправый такой оазис, где живут люди, которые, очевидно, относятся к классу пролетариев и являются социальной базой какого-нибудь потенциально мощного социального движения – но при этом предпочитают существовать в виде замкнутого, сугубо провинциального, местечкового, по своей сути и абсолютно безнадежного с политической точки зрения, движения. Как ты можешь это объяснить?
– Некоторые из них все же мыслят себя в контексте интернационального движения. Многие из этих всех безумных людей – постоянные гости каких-то форумов национальных меньшинств, которые проводит Евросоюз. Они туда постоянно ездят, выступают. Европейские ультраправые политики находятся с ними в большой дружбе. Например, норвежские неонацисты поддерживают теплые отношения с южноафриканскими – ну и так далее. То есть, это международное движение.
– А есть ли у них какие-то контакты с российскими ультраправыми? Ведь у в России существует достаточно старая традиция симпатий к африканерам, начиная еще с времен Англо-бурской войны, куда россияне ездили добровольцами – сражаться на их стороне.
– Пока нет. Хотя дискурс Англо-бурской войны, конечно, там популярен. 99% моих знакомств с жителями Претории начинались с обсуждения Англо-бурской войны – после чего, примерно со второй недели своей работы в поле я начал пытаться переводить разговор на ангольскую войну, и в ответ на это мои собеседники обиженно замолкали. Так что да, Россия воспринимается там как дружественная страна – причем, именно в контексте Англо-бурской войны. Образ СССР как-то вытеснен из коллективной мифологии. Вернее, не вполне вытеснен – все же «красная угроза», это то, с чем эти люди росли. Но об этом особенно не говорят.
– У нас ведь тоже в определенных кругах весьма распространен дискурс апартеида. Есть даже особые интернет-сообщества любителей истории режима апартеида в ЮАР, историей Родезии. Они ностальгируют по этому режиму, пытаясь представить его обществом всеобщего благоденствия, сознательно разрушенного какими-то леваками на пару с американскими спецслужбами…
– Да, я недавно встретил обновленную версию этого мифа. Я пока затрудняюсь сказать точно, в чем состоит сила его притягательности – в какой-то старательно выстроенной мифологии, наверное.
Вообще, это, конечно, уникальный вариант реализации всех этих болезненных фантазмов. Меня в последнее время занимает вопрос артикуляции вот этой самой «белости» – и в Южной Африке, и на постсоветском пространстве. Когда, где и каким образом она произошла?
– То есть, ты хочешь выяснить, когда и каким образом мы с тобой стали «белыми»?
– Да, ведь все это чувствуют – этничность срастается с классом. И хотя в нашей ситуации сложновато говорить о прямых параллелях, все же нужно всегда иметь в виду опыт ЮАР. Чтобы не произошло такого, что в один прекрасный день ты просыпаешься и...
Хотя, откровенно говоря, мы уже проснулись в один такой день – если кто не заметил. В Советском Союзе о таких делениях речи не шло. «Белость» вообще не существует вне колониального и капиталистического контекста. Понятно, что где-то на бытовом уровне, конечно, это существовало – но вот со временем этот дискурс становится все заметней.
Очень не хотелось бы становиться «белым», «черным» или «цветным». Я бы предпочел остаться в лимбе таком – это дает тебе большую свободу действий и пространства. Вообще полезно прямо задать себе этот вопрос: я – белый? А рабочий из Украины или Молдовы, которого я нанимаю красить стены – вот он белый, или я все же белее – раз я его нанимаю? А дворник из Средней Азии?
Ведь речь тут идет не об антропологических признаках. Африканеры, о которых мы говорим – это, строго говоря, антропологически не вполне европейские люди. За триста лет жизни бок о бок с африканцами, с койсанами (племена гриква, бастеров, орламов, ветбоев, происходящие от смешанных браков с белыми, известны в Южной Африке с XVIII века, а их представители входят сейчас в африканерскую общину – прим. ред.) с кем угодно – было такое количество смешанных браков, что о биологическом европейском наследии говорить особенно не приходится. И очень часто просто невозможно «на глаз» определить, белый перед тобой или цветной – особенно в Кейпе.
И тогда это определение осуществляется за счет дополнительных факторов, которые навешиваются на цвет кожи – где человек живет, кем работает, и так далее. Задавая себе этот прямой вопрос можно в принципе обойтись без академического инструментария, интуиция подскажет правильно. Ну а дальше... У нас набор характеристик «белости» пока очень, очень размыт – но совершенно точно он будет становиться четче. Нужно внимательно за этим наблюдать – и, по возможности, сопротивляться. Очень тревожно наблюдать, как это многократно разоблаченное и доказавшее свою несостоятельность направление поднимает голову у нас на глазах – здесь, сегодня.
Исследования феномена «белости» набирают все большую популярность в гуманитарных науках. Традиционно эта дисциплина была связана с Америкой, но сегодня появляются такие исследования и на материале других регионов. ЮАР с ее колониальным наследием – прекраснейший пример того, что «белость» всегда сконструирована. Чтобы быть белым, мало иметь определенный цвет кожи, нужно еще чему-то соответствовать, нужно иметь определенный уровень дохода, быть занятым на определенной работе, жить в определенно месте. Есть такой термин, «good white», который это описывает.
Когда ты мотаешься по трущобам, куришь опиум, в 1913-м году, или потребляешь метамфетамин в 2013-м, общаешься в основном с черными – то каким бы голубоглазым ты не был, в колониальной логике ты уже не вполне белый. И тебя надо спасать – иеаче ты совсем исчезаешь с радаров колониального контроля и в итоге становишься для них «дикарем», врагом.
Я разговариваю с состоятельными африканерами в Претории, и когда речь заходит о белых бедняках, они пренебрежительно бросают: «а, это те, что живут на «lokasies» – это раньше так африканеры называли гетто для чернокожих, переферийные рабочие поселки вокруг крупных городов. Они представляются состоятельным африканерам в виде какой-то безвольной человеческой массы, которую согнали во все эти поселения.
Можно было бы ожидать, что этот колониальный дискурс повыветрится за сто лет – но нет. Конечно, он сохраниолся в облегченном виде – но сто лет назад ровно те же типажи сто процентов состояли бы в каком-нибудь евгеническом клубе, и вздыхали бы, как спасти этих заблудших «белых» бедняжек. Отдельные энтузиасты, как правило, связанные с разными НКО, ровно так и мыслят. Всегда находятся какие-то тетушки – условно говоря из upper middle class или даже middle middle class, которые рвутся спасать белых бедняков, привозят им какие-то игрушки, одежду и прочие вещи, обнимаются с ними. После чего тут же, при них, начинают прыскать друг друга всякими септическими спреями, прежде чем сесть в машину и уехать. И картинка в СМИ строится вокруг этой столетней давности дичи: «ай, посмотрите, какой ужас! Белые – и в такой нищете!».
– Ты уже выступал с докладами по теме своего исследования – и у нас в стране, и за рубежом. Можешь ли ты кратко сформулировать главный тезис своего исследования?
– Главный тезис состоит в том, что после крушения режима апартеида, который на государственном уровне обеспечивал белых бедняков некой системой социальных гарантий, данная система сохранилась – пережив определенную мутацию и возродившись на уровне каких-то частных инициатив.
И за счет коммерческой выгоды этих проектов, они на самом деле воспроизводят «белую бедность» на структурном уровне. А за пределами этих проектов – уже совсем другой мир, где привилегии не гарантированы, нужно конкурировать на рынке труда, и это способствует еще большей консервации и автономизации таких сообществ.
Беседовал Александр Панов
Фоторепортаж Андрея Манчука, Ильи Деревянко, Владислава Болобанова
Читайте по теме:
Евгений Жутовский. ЮАР: «Чудовище рынка вырвалось на свободу»
Бафур Анкома. Проблемы Намибии
Rositsa. Антон Любовски. Белый герой Намибии
Александр Панов. Шарпевиль-2?
Андрэ Влчек. «Худший город на свете»
Артем Кирпиченок. Путешествие в кибуц
-
Історія
Африка и немцы - история колонизации Намибии
Илья Деревянко история колонизации Намибии>> -
Економіка
Уолл-стрит рассчитывает на прибыли от войны
Илай Клифтон Спрос растет>> -
Антифашизм
Комплекс Бандеры. Фашисты: история, функции, сети
Junge Welt Против ревизионизма>> -
Історія
«Красная скала». Камни истории и флаги войны
Андрій Манчук Создатели конфликта>>




















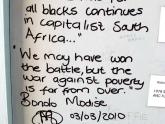



























 RSS
RSS





